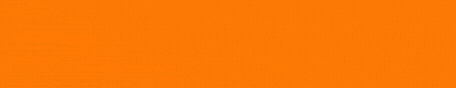История: Лошадь для «лишнего человека»
Автор: Егор МЕЛЕНТЬЕВ
Номер журнала: GM №8(165)2016
В большинстве классических произведений русской литературы так или иначе упоминаются лошади. Хотя бы просто потому, что до начала прошлого века это был основной транспорт и вообще неотъемлемый атрибут повседневной жизни людей. На этот раз речь пойдет о произведениях Золотого века русской словесности, где лошадь – не просто средство передвижения или объект купли-продажи, а полноценный герой, занимающий свое определенное место на страницах известных книг.
Лев Толстой, как известно, был не только мастером художественного слова, но также большим любителем и знатоком лошадей. Чего стоит хотя бы пронзительная история пегого мерина Холстомера, описанная классиком в одноименной повести на основе реальной судьбы выбракованного из Хреновского конного завода рысака. Пожалуй, нет такого из тех, кто читает книги, который не всплакнул бы над трагедией этой лошади. Как и над не менее драматичной судьбой «поддельного» Изумруда Александра Куприна, или кобылы Лести из «Внука Тальони» Петра Ширяева, или героического Браслета II Льва Брандта. К слову, об этих писателях и их «конных» историях Gold Mustang уже неоднократно подробно рассказывал. Сегодня мы идем дальше…
Карагез – значит «черноглазый»
Еще школьные педагоги научили нас универсальной формуле, характеризующей большинство главных героев русской классики XIX века, – это пресловутый «лишний человек». В их ряды записали и Онегина, и Раскольникова, и Базарова, и Обломова, и Чацкого. Однако все же самым «лишним», пожалуй, оказался Печорин. По крайней мере, сам Лермонтов так характеризует своего «Героя нашего времени»: «Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Но оставим в стороне личность этого неоднозначного персонажа и отправимся в небольшое путешествие по живописным горным тропам Северного Кавказа.
Вряд ли кому-либо из русских писателей удалось лучше рассказать о Кавказе, чем это сделал Лермонтов, который был влюблен в этот край. В первой повести «Героя нашего времени» – «Бэла», Кабарда предстает перед нами не только во всей красоте своей природы, но и наполненной живым национальным колоритом. В сюжете рассказа Лермонтов определяет для лошади роль разменной монеты ради овладения прекрасной женщиной. Собственно, волшебный конь разбойника Казбича, Карагез, по меркам местных джигитов оценивался даже дороже, чем красавица Бэла:
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.
Впрочем, кажется, что и сам автор, судя по щедрости восторженных описаний этого животного, разделяет такую точку зрения. «А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! Скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена – как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!»
Для Казбича, истинного горца, Карагез является настоящим другом, в буквальном понимании этого слова. Его фраза «Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети» говорит о степени уважения к своей лошади. В тот час, когда он рискует потерять Карагеза после встречи с казаками, Казбич обращается к Богу, чтобы он не разлучил его с другом. Поэтому искренняя ярость Казбича после кражи коня понятна читателю (Лермонтов сделал все для этого), и даже в какой-то степени она оправдывает его дальнейшие преступления.
Карагез в этой повести помогает автору раскрыть образы сразу двух персонажей. В Казбиче он открывает способность к дружбе, преданность и страх перед потерей близкого существа – все это делает личность, казалось бы, грубого абрека намного глубже и интереснее. В Азамате, брате Бэлы, Карагез подчеркивает моложавость, горячность и смертельную зависть, столь естественную для 15-летнего подростка. Лошадь представляется ему искушением, перед которым он не может устоять. Да еще до такой степени, что тот решается похитить из дома собственную сестру.
«Ааа! что я сделал!»
Только страсть к лошадям и барьерным скачкам была способна хоть немного отвлечь молодого графа Алексея Вронского, честолюбивого и благородного, но чрезвычайно легкомысленного, от его пылкой любви к Анне Карениной. Внимание к его чистокровной верховой кобыле Фру-Фру и подробности в ее описании говорят о том, что для самого Толстого эта лошадь – отнюдь не легкий штрих в портрете главного героя. Смотрите. «Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью; хотя ее грудина и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широкая, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе... Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была кровь, та кровь, которая сказывается, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого».
Хотя, конечно, главная роль этой караковой кобылы состояла в том, чтобы указать читателю, что Вронский способен погубить в буквальном смысле того, кого искренне любит и ценит. Главный герой относится к своей лошади с огромной нежностью, обращается к ней, почти как к любимой женщине: «О, Милая!», «Прелесть моя!» И все же азарт и бесшабашность молодого офицера приводит к трагедии – из-за его ошибки на последнем препятствии лошадь получает сильнейшую травму и погибает. «Ааа! Что я сделал! – прокричал он. – И проигранная скачка!
И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! Что я сделал!» «Он чувствовал себя несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастие, несчастие неисправимое и такое, в котором виною сам». В тот момент ни он, ни читатель романа еще не догадываются, что Вронскому предстоит пережить и еще одну, куда более тяжелую, потерю.
Между тем эпизод с Царскосельскими скачками, которые было бы правильнее назвать стипль-чезом, представляет собой для читателя-конника бесценный документ истории конного дела в нашей стране. Лев Николаевич не только погружает нас в атмосферу скачек, но также подробно описывает и устройство дорожки, и процесс жеребьевки жокеев. Он даже перечисляет все препятствия, которые, судя по описанию, сегодня ничуть не уступят самому сложному троеборному кроссу: «река, большой, в два аршина, глухой барьер пред самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая из вала, утыканного хворостом, за которым, не видная для лошади, была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться; потом еще две канавы с водою и одна сухая, – и конец скачки был против беседки». Словом, благодаря этому относительно небольшому, но чрезвычайно динамичному эпизоду Лев Николаевич приглашает нас понаблюдать за ожесточенной барьерной скачкой с трибуны ипподрома образца 1870-х годов в Царском селе. От которого сегодня, кстати, остались лишь воспоминания.
Два Малек-Аделя
«Записки охотника» Тургенева – уникальная галерея образов, бережно выбранных писателем из самых разных слоев российского общества середины XIX века – от крестьян до дворян. По словам главного критика Золотого века – Белинского, рассказы из этого цикла неравноценны по художественным достоинствам; среди них есть более сильные, есть – менее. В то же время «между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен». Для нас наиболее «интересным, занимательным и поучительным», конечно, является рассказ «Конец Чертопханова».
Представитель старинного обедневшего дворянского рода, отставной прапорщик Пантелей Еремеевич Чертопханов – напыщенный, надменный, сумасбродный, но добрый и способный к состраданию человек – переживает один за другим тяжелые удары судьбы. Сначала от него уходит любимая женщина, цыганка Маша, затем умирает его близкий друг Тихон Недопюскин. Но окончательно сводит в могилу история, которая случилась с его лошадью.
Этот рассказ дает нам еще один пример «идеального коня». «Огонь, как есть огонь, просто порох – а степенство, как у боярина! Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный; а прокормить его ничего не стоит: коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет – как в руках несет; рысью – что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться! Никогда-то он не запыхается: потому – отдушин много. Ноги – стальные; чтобы он когда спотыкнулся – и в помине этого не бывало! Перескочить ров ли, тын ли – это ему нипочем; а уж умница какая!» Для Чертопханова серый конь донской породы (что, кстати, удивительно) Малек-Адель стал и лучшим другом, и главным подтверждением его социального статуса и превосходства над соседями. Да, впрочем, и вообще единственной радостью в жизни.
Понятное дело, лошадь крадут. Чертопханов разыскивает свое сокровище около года, возвращаясь в итоге домой верхом на Малек-Аделе. Однако очень скоро героя одолевает сомнение, которое начинает разъедать его душу – он ошибся, это другая лошадь. В небольшом фрагменте автор поразительно тонко описывает различия между похожими, но все же разными лошадьми: «У того хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей – но это могло только так казаться; а смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та. Например: тот Малек-Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню; а этот жевал себе сено как ни в чем не бывало или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла; но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень... Тот, если, например, против ветра его поставить, – сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется, а этот знай пофыркивает; того сырость дождевая беспокоила – этому она нипочем... Грубее этот, грубее! И приятности нет, как у того, и туг на поводу – что и говорить! Та была лошадь милая – а эта...»
Наконец, Чертопханов окончательно убеждается в том, что его новая лошадь не Малек-Адель, и она тут же превращается в главного врага всей жизни, виновником бед и олицетворением всей его ничтожности. Он убивает коня, а спустя шесть месяцев, спившись, умирает и сам.
В этом произведении лошади отводится довольно необычная роль – невольного вершителя судьбы человека. Причем, несмотря на то, что животное очевидно становится заложником своего положения, Тургенев предоставляет ему своего рода право к самостоятельным действиям. Сначала Чертопханов, передумав убивать, отпускает коня, но тот сам возвращается к нему, как бы не оставляя выбора помешавшемуся помещику. Несмотря на то что лошадь, безусловно, по-настоящему жалко, эта история в целом имеет абсолютно нетривиальный сюжет, а кроме того, открывает перед нами Тургенева как знатока лошадей.
Дурной сон
В романе Достоевского «Преступление и наказание» тоже нашлось место для лошади. Но здесь она совсем другая. Раскольников был настолько беден, что едва сводил концы с концами и о собственной лошади даже не помышлял. Безымянная упряжная кляча появляется во сне будущего убийцы.
Пожалуй, для сегодняшнего читателя-конника перед этим эпизодом следует разместить предупреждение из разряда «слабонервным просьба пропустить» или как минимум «16+». Настолько жестокую сцену рисует перед нами автор. А для того чтобы усилить эффект, Достоевский устраивает так, что сам Раскольников наблюдает за ней, будучи семилетним мальчиком. Ему снится, что перед кабаком стоит огромная тяжелая телега, в которую запряжена старенькая лошадка – «маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые – он часто это видел – надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка». Вдруг из кабака вываливается толпа пьяных людей, в том числе и хозяин лошади, здоровенный детина по имени Миколка, который приглашает всех сесть на его телегу, обещая пустить лошадь вскачь. Несчастная кобыленка не может даже тронуться с места, за что подвергается жестокой экзекуции. Опустив подробности, скажем, что в итоге хозяин убивает свою лошадь. Кульминацией же этого эпизода становится реакция ребенка-Раскольникова: «Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы».
Даже не читавшие романа, отлично знают, что бедный студент Раскольников убил жадную старуху-процентщицу и испытывал по этому поводу в душе мучительную внутреннюю борьбу до и после преступления. А сон с лошадью, увиденный им накануне убийства, был одним из «аргументов против». Достоевский указывает герою на жалость, сострадание и человечность, которые в нем еще остались, заставляя, тем самым, в очередной раз усомниться в своей кровожадной затее. Лошадка в данном случае лишь яркий абстрактный образ жертвы. А ее мучитель Миколка ставится перед Раскольниковым в качестве антипримера. Просыпаясь после этого жуткого сна, он терзается самыми сильными сомнениями: «Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?»
Кто-то, сравнивая русскую культуру в ее совокупности со всеми прочими, однажды сказал, что мы лучше всех в мире умеем делать три вещи – воевать, молиться и писать книги. «Золотой век русской литературы» XIX века – это о последнем нашем качестве. Классики этого периода подарили миру удивительное сокровище – настоящую энциклопедию противоречивой человеческой натуры с ее метаниями, борьбой, способностью к подлости, любви и состраданию. Наши писатели смело заглянули в недра людских переживаний и сумели дать об увиденном предельно честный и подробный рассказ. Но что особенно удивительно – многим из них удалось вскрыть глубины человеческой души через потрясающе красивые и глубокие образы лошадей.